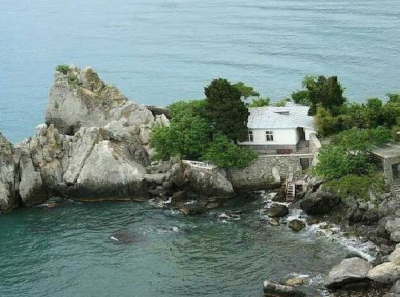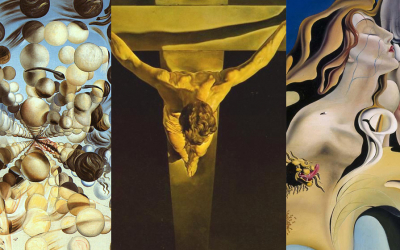Здоровая дородность: тело как залог выживания
В мире, где каждый восход солнца был битвой за урожай, а каждая зима — испытанием на прочность, эстетика была неотделима от прагматики. Древняя и средневековая Русь, с ее суровым климатом и аграрным укладом, выковала свой идеал женской красоты не в досужих размышлениях о гармонии линий, а в суровой необходимости выживания. Худоба, которую сегодня превозносят на глянцевых обложках, в глазах наших предков была не признаком изящества, а синонимом болезни, бедности и, что самое страшное, бесплодия. Жених и его родня, выбирая невесту, смотрели на нее не как на объект эстетического любования, а как на будущую мать многочисленного потомства и неутомимую работницу, на чьих плечах будет держаться добрая половина хозяйства. Поэтому полнота, или, как говорили, «дородность», была не недостатком, а главным достоинством, зримым свидетельством здоровья, плодовитости и достатка в семье, из которой девушка происходила. «Худая корова — еще не газель, а худая баба — еще не жена», — гласила народная мудрость, в которой было больше жизненной правды, чем грубости.
Идеал женской фигуры был продиктован ее прямым предназначением. Широкий таз и округлые, налитые бедра обещали легкие роды, а высокая, пышная грудь — способность выкормить здорового и крепкого младенца, а то и не одного. В условиях высокой детской смертности способность женщины рожать часто и много была залогом продолжения рода. Крепкие, сильные ноги и руки, прямая, как струна, спина и гордая, «величавая» осанка говорили о том, что эта женщина способна выдержать тяжелый физический труд. А трудиться приходилось от зари до зари. Женщина на Руси не была кисейной барышней, проводящей дни в терему. Она жала, косила, носила воду, доила коров, ткала, пряла, вела все домашнее хозяйство и воспитывала детей. Ее тело было ее главным инструментом, и оно должно было быть крепким и выносливым. Летописец Нестор в «Повести временных лет» не оставил нам описаний женской красоты, его занимали дела государственные, но сам быт, который он описывает, не оставляет сомнений: хрупкому созданию в том мире было не выжить.
Питание, основанное на простых и сытных продуктах, также способствовало формированию определенного типа фигуры. Каши, ржаной хлеб, репа, горох, щи — эта пища давала энергию для тяжелой работы и формировала плотное, крепкое телосложение. Мясо на крестьянском столе было редким гостем, но недостаток белка компенсировался молочными продуктами, рыбой и грибами. Девушка, которая хорошо питалась, имела здоровый цвет лица и запас подкожного жира, который был не только энергетическим резервом на случай голодной зимы, но и естественной защитой от холода. Свахи, эти опытные «рекрутеры» невест, оценивали девушку наметанным глазом: смотрели, насколько она «в теле», как ходит, как сидит. Вялость и бледность были плохими признаками, а вот стать, которую сравнивали с величавой походкой павы или плавной грацией лебедя, ценилась очень высоко.
Этот культ здорового, сильного тела нашел отражение и в фольклоре. Героини русских сказок и былин — это не эфирные принцессы, а могучие девы-воительницы, как Настасья Микулишна, или справные хозяйки, как Василиса Премудрая. Они не только красивы, но и сильны, умны и деятельны. Их красота — это красота силы, здоровья и жизненной энергии. Даже когда речь идет о княжнах и царевнах, акцент делается не на хрупкости, а на стати и дородности. Вспомним описание царевны-лебедь из сказки Пушкина, который гениально уловил народный идеал: «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит; а сама-то величава, выступает, будто пава». «Величава», то есть полна величия, значительности, а не «тонка» или «изящна».
В «Домострое», этом своде правил русской жизни XVI века, протопоп Сильвестр, наставляя молодого хозяина, уделяет много внимания обязанностям жены. Хотя он и не описывает ее внешность, из перечня ее дел становится ясно, какой она должна быть. Идеальная хозяйка, по Сильвестру, встает раньше всех, ложится позже всех, все у нее в руках горит, она и шьет, и ткет, и за припасами следит, и слуг гоняет, и детей учит. Такая женщина по определению не может быть слабой и болезненной. Таким образом, в допетровской Руси идеал женской красоты был насквозь функционален. Красивым считалось то, что было полезным и жизнеспособным. Это была эстетика выживания, где тело женщины рассматривалось как величайшая ценность, как гарантия благополучия семьи и продолжения рода. И в этом не было ничего унизительного, напротив, это придавало женщине особую значимость и вес в патриархальном обществе.
Лицо — зеркало души, а коса — девичья краса
Если тело русской красавицы должно было олицетворять здоровье и силу, то ее лицо и волосы были отражением ее чистоты, душевной гармонии и социального статуса. Идеал лица, дошедший до нас через фольклор, иконопись и позднейшие описания, был удивительно поэтичен. «Лицо белое, как снег, румянец алый, как маков цвет, брови черные, соболиные, а глаза ясные, как у сокола» — этот канонический портрет рисовал образ, полный контрастов и жизненной силы. Белизна кожи ценилась чрезвычайно высоко. Она была признаком благородного происхождения, знаком того, что девушке не приходилось много работать в поле под палящим солнцем. Для достижения заветной белизны в ход шли различные ухищрения: кожу натирали огуречным соком, простоквашей, а в зажиточных семьях использовали свинцовые белила, которые, к слову, были крайне вредны для здоровья. Но красота, как известно, требует жертв, и желание иметь «лебединую» кожу перевешивало страх перед недугами.
Яркий румянец на всю щеку, напротив, говорил о здоровье и хорошем кровообращении. Он должен был быть естественным, «кровь с молоком», как говорили в народе. Если же природа не наградила девушку таким румянцем, на помощь приходила свекла. Ее соком подкрашивали щеки, создавая образ пышущей здоровьем красавицы. Губы должны были быть алыми, «как вишня», а брови — густыми, черными и дугообразными, как «соболиные». Их подводили угольком, придавая лицу большую выразительность. Большие, ясные глаза дополняли этот образ. Их цвет не имел принципиального значения, ценился сам взгляд — открытый, спокойный, но в то же время скромный и целомудренный.
Однако главным украшением, главным символом и главным богатством русской девушки была ее коса. Отношение к волосам на Руси было почти сакральным. Они считались вместилищем жизненной силы и женской энергии. Длинная, толстая, доходившая до пояса, а то и до пят, коса была предметом особой гордости ее обладательницы и ее семьи. По толщине косы судили о здоровье и жизненном потенциале девушки. «Коса — девичья краса» — эта поговорка была не просто красивой фразой, а отражением мировоззрения. Для ухода за волосами использовали натуральные средства: мыли их щелоком, ополаскивали отварами трав — крапивы, ромашки, корня лопуха. Это позволяло сохранить их силу и блеск.
Коса была не просто прической, а важнейшим социальным маркером. Девушка на выданье носила одну косу, спущенную по спине. Это был знак того, что она свободна и находится в поиске жениха. Во время свадебного обряда происходил один из ключевых ритуалов — расплетание девичьей косы. Подруги с плачем и причитаниями расплетали волосы невесты, прощаясь с ее девичеством. Затем волосы заплетали уже в две косы, которые укладывали вокруг головы и прятали под женский головной убор — повойник или кику. С этого момента женщина не имела права появляться на людях с непокрытой головой. «Опростоволоситься», то есть показаться с распущенными волосами, считалось величайшим позором, равносильным измене.
Лишить женщину волос было страшнейшим оскорблением и наказанием. Неверным женам мужья в знак бесчестья отрезали косы, выставляя их на всеобщее порицание. Это было равносильно гражданской казни. Потеря волос ассоциировалась с потерей женской чести, силы и даже души. Этот трепетный, почти мистический пиетет перед волосами сохранялся в народе на протяжении многих веков и начал уходить в прошлое лишь в XX веке, с его революциями и кардинальной сменой социальных ролей.
Таким образом, внешность русской красавицы была целой системой знаков, понятных каждому. Ее лицо, ее волосы, ее одежда — все говорило о ее здоровье, социальном статусе и нравственных качествах. Это был язык, на котором общество читало историю и потенциал каждой женщины. И в этом языке не было ничего случайного. Белая кожа говорила о знатности, румянец — о здоровье, ясные глаза — о чистоте помыслов, а толстая, длинная коса была главным обещанием будущего — обещанием здоровых детей и процветания рода.
Тише воды, ниже травы: добродетели идеальной супруги
В патриархальном мире Древней Руси, где вся жизнь была строго регламентирована церковными канонами и вековыми традициями, красота женщины не исчерпывалась ее внешними данными. Не менее, а порой и более важной считалась ее красота внутренняя, которая выражалась в наборе определенных добродетелей. Идеальная жена и будущая мать должна была быть не только здоровой и статной, но и обладать соответствующим характером. Ключевыми качествами, которые ценились в невесте, были кротость, смирение, молчаливость и абсолютная покорность сначала родительской воле, а затем — воле мужа. Женщина, подобно сосуду, должна была быть чистой и готовой к наполнению волей своего господина. Любое проявление своеволия, упрямства или дерзости считалось страшным пороком, способным разрушить семью и навлечь гнев Божий.
«Домострой», написанный в XVI веке, дает исчерпывающее представление об этом идеале. Жена, поучает автор, должна «всегда... со страхом внимать» мужу, «что он прикажет, то с любовью и исполнять». Вся ее жизнь должна быть подчинена служению ему и семье. Она должна быть немногословной, «не любопытной», не вступать в пересуды с соседками, не распускать слухи и не смеяться громко. Ее мир был ограничен домом, а ее общение — строгим кругом родственников. Даже в церкви ей предписывалось стоять смирно, «ни с кем не беседовать, ни на кого не оглядываться». Этот идеал тихой, незаметной и покорной женщины был обусловлен не только религиозными догматами, но и практическими соображениями. В большой патриархальной семье, где под одной крышей жили несколько поколений, женские ссоры и интриги могли стать разрушительной силой. Поэтому от женщин требовалось умение ладить, уступать и гасить конфликты.
Поведение девушки на людях было строго регламентировано. Она должна была ходить плавно, «лебедушкой плыть», не семенить и не размахивать руками. Взгляд ее должен был быть потуплен, особенно в присутствии мужчин. Громкий смех, смелые речи, кокетство — все это считалось признаком распущенности и дурного воспитания. Девушку с детства приучали к сдержанности и терпению. Считалось, что женщина по своей природе существо более эмоциональное и греховное, чем мужчина, и поэтому нуждается в постоянном контроле и строгой узде. Муж, как глава семьи, нес ответственность за душу своей жены перед Богом и имел право, и даже обязанность, «учить» ее, в том числе и физически. «Домострой» подробно расписывает, как следует наказывать провинившуюся жену: «...плеткою вежливенько побить, за руки держа... и слова ей не молвить, и не гневаться». Это сегодня кажется дикостью, но в ту эпоху воспринималось как норма и даже как проявление заботы.
Однако не стоит думать, что женщина на Руси была лишь бесправной и забитой рабыней. В рамках своего дома, своего «бабьего кута», она была полновластной хозяйкой. На ней лежала огромная ответственность за быт, припасы, воспитание детей, здоровье всех членов семьи. Она была хранительницей очага в самом прямом и переносном смысле. И хотя она была подчинена мужу, ее труд и ее роль в семье высоко ценились. Мужчина, потерявший жену, часто оказывался в очень уязвимом положении, неспособный в одиночку справиться с хозяйством. Поэтому, несмотря на всю строгость нравов, хороший муж относился к своей жене с уважением и любовью, видя в ней не прислугу, а верную помощницу и соратницу.
Были и сферы, где женское слово имело вес. Например, в сватовстве и выборе невест для сыновей мнение матери часто было решающим. Существовали и особые, ритуальные формы женского самовыражения. В свадебных и похоронных обрядах женщины исполняли специальные песни-плачи, в которых могли выплеснуть свои эмоции, пожаловаться на свою горькую долю. Это была своего рода отдушина, клапан для сброса накопившегося напряжения. Таким образом, идеальный образ русской красавицы был гармоничным сочетанием внешней привлекательности и внутреннего смирения. Она должна была быть здоровой и сильной, чтобы рожать детей и вести хозяйство, и в то же время кроткой и покорной, чтобы не нарушать установленный порядок и быть опорой своему мужу. Это был сложный и противоречивый идеал, рожденный суровой эпохой, где выживание ценилось выше индивидуальности, а порядок — выше свободы.
Боярыни и дворянки: петровские реформы и новый стандарт
На рубеже XVII и XVIII веков на Русь обрушился ураган по имени Петр I, и вековой уклад жизни, казавшийся незыблемым, затрещал по швам. Царь-реформатор, прорубая «окно в Европу», ломал старые традиции с решимостью и жестокостью хирурга, ампутирующего пораженную гангреной конечность. И одним из главных объектов его преобразований стала жизнь русской женщины, по крайней мере, в высших слоях общества. Петр, насмотревшись на европейские нравы, решил вытащить боярышень и дворянок из их теремов, где они жили в затворничестве, и сделать их полноценными участницами светской жизни. Этот культурный шок был сравним с землетрясением. Вместе с бритьем бород и введением европейского платья в Россию пришел и совершенно новый идеал женской красоты, диаметрально противоположный прежнему.
На смену дородности и стати пришла мода на утонченность и хрупкость. Главным инструментом формирования нового силуэта стал корсет. Этот «испанский сапог» для женского тела, затягивавший талию до немыслимых размеров, калечивший внутренние органы, но создававший модный силуэт «песочные часы», стал обязательным атрибутом дворянки. Пышные формы, ранее считавшиеся достоинством, теперь прятались и утягивались. На смену сарафанам и душегреям пришли платья с глубоким декольте, обнажавшим плечи и грудь, что для допетровской Руси было абсолютно немыслимо. Лица начали обильно пудрить, на щеки наклеивать кокетливые мушки, а на головы водружать сложные, многоярусные прически или парики, также пришедшие из Европы. Образ русской «павы» сменился образом французской или немецкой маркизы.
Изменились не только одежда и внешность, но и само поведение. Петр ввел ассамблеи — светские собрания, куда дворяне должны были являться вместе с женами и взрослыми дочерьми. Здесь женщины должны были не просто присутствовать, а активно участвовать: вести светские беседы, танцевать новомодные танцы вроде менуэта и контрданса, играть в карты. От них теперь требовались не молчаливость и покорность, а остроумие, знание языков (в первую очередь, французского) и умение держаться в обществе. Это была настоящая революция в сознании. Вчерашние затворницы, чей мир был ограничен домом и церковью, оказались в центре шумной, блестящей и совершенно чуждой им светской жизни. Юст Юль, датский посланник при дворе Петра, с удивлением и иронией описывал в своем дневнике первые ассамблеи: «Дамы и девицы сидели, забившись в угол, красные как раки, и не смели слова вымолвить, глядя друг на друга с испугом».
Но процесс был запущен, и остановить его было уже невозможно. В царствование преемниц Петра, особенно Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, европейские моды и нравы окончательно укоренились при дворе. Елизавета, сама большая модница, тратила на наряды и развлечения колоссальные суммы. После ее смерти, как говорят, осталось более пятнадцати тысяч платьев. Идеал красоты становился все более утонченным, манерным и далеким от народа. Белизна кожи и румянец теперь достигались исключительно с помощью косметики, причем ее использовали в таких количествах, что лица придворных дам напоминали неподвижные маски.
Однако эта трансформация коснулась лишь тончайшего слоя общества — высшего дворянства. Основная масса населения — крестьянство, купечество, мещанство — продолжала жить по старым законам и придерживаться традиционных представлений о красоте. Для них пышнотелая, здоровая и работящая женщина по-прежнему оставалась идеалом. Это привело к возникновению культурного раскола, пропасти между европеизированной элитой и народом. Дворянка XVIII века и крестьянка из глухой деревни были словно представительницами разных цивилизаций. Они по-разному одевались, по-разному говорили, по-разному думали и имели совершенно разные представления о прекрасном.
Екатерина II, будучи немкой по происхождению, но умной и проницательной правительницей, пыталась найти некий синтез между европейской формой и русским содержанием. В ее царствование в моду вошел так называемый «русский стиль». Дворянки на маскарадах и праздниках начали носить стилизованные сарафаны и кокошники, демонстрируя свою связь с национальной культурой. Однако это была лишь игра, маскарад. В повседневной жизни они оставались европейскими дамами. Тем не менее, именно в это время начинает формироваться новый тип русской красавицы, который найдет свое полное воплощение в XIX веке: женщины, сочетающей в себе европейское образование и утонченность манер с глубоким, сильным и самобытным русским характером. Петровские реформы, при всей их жестокости, дали мощный толчок развитию, но старая, корневая Русь не исчезла, а лишь ушла вглубь, чтобы со временем дать новые, неожиданные всходы.
От тургеневской девушки до советской труженицы: красота в зеркале перемен
Девятнадцатый век, «золотой век» русской литературы, подарил миру новый, сложный и невероятно притягательный идеал женской красоты — «тургеневскую девушку». Этот образ, рожденный гением Ивана Сергеевича Тургенева и подхваченный другими писателями, стал квинтэссенцией русского женского характера. Красота тургеневской героини — Лизы Калитиной, Натальи Ласунской, Елены Стаховой — была в первую очередь красотой духовной. Это были девушки с богатым внутренним миром, глубоко чувствующие, ищущие, способные на самопожертвование во имя высокой цели или великой любви. Их внешность часто была неброской, лишенной ослепительного блеска светских львиц. Они могли быть бледны, задумчивы, даже несколько неловки, но их лица были озарены светом интеллекта и нравственной чистоты. В них европейская образованность и культура гармонично сочетались с чисто русской душевной глубиной и искренностью. Этот идеал был своего рода синтезом, примирением двух начал, боровшихся в русской культуре со времен Петра.
Однако параллельно с этим утонченным, дворянско-интеллигентским идеалом продолжал существовать и другой, более земной и витальный. Его блистательно запечатлел на своих полотнах художник Борис Кустодиев уже в начале XX века. Его знаменитые «купчихи» и «красавицы» — это прямой потомок допетровской «лебедушки». Пышнотелые, румяные, пышущие здоровьем, они сидят за самоваром среди изобилия яств, олицетворяя собой сытость, довольство и незыблемость купеческого быта. Это красота не духа, а плоти, гимн материальному миру и жизненной силе. Кустодиевские красавицы — это ностальгический взгляд на уходящую Русь, на тот старый идеал, который еще сохранялся в народе, но уже начинал выглядеть архаичным на фоне стремительно меняющегося мира.
Революция 1917 года и последующее установление советской власти произвели очередной тектонический сдвиг в представлениях о прекрасном. Новая эпоха требовала нового героя, а точнее, героини. На смену томной дворянке и сытой купчихе пришла женщина-труженица, женщина-товарищ, строитель нового мира. Идеал красоты снова стал функциональным, но теперь его функцией было не рождение детей и ведение хозяйства, а участие в социалистическом строительстве. Главными добродетелями стали не кротость и не утонченность, а сила, здоровье, энергия и преданность делу партии. Советский плакат 1920–1930-х годов создал канонический образ новой женщины: широкоплечая, мускулистая работница или колхозница в красной косынке, с уверенным и прямым взглядом, устремленным в светлое будущее. Ее тело — это не объект мужского желания, а инструмент для труда и борьбы.
В сталинскую эпоху этот образ приобрел более монументальные и безличные черты. Знаменитая скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» стала идеальным воплощением этого стиля. Женщина здесь равна мужчине, она его соратница, и вместе они шагают вперед, к коммунизму. В послевоенные годы, особенно в период «оттепели», идеологический пресс несколько ослаб, и в образ советской женщины начали возвращаться черты лиризма и женственности. Однако основной стандарт оставался прежним: красота должна была быть здоровой, естественной и скромной. Фильм «Девчата» с его главной героиней Тосей Кислицыной — задорной, энергичной и трудолюбивой поварихой — прекрасно отражает этот идеал.
Кардинальные изменения начались в 1970-е годы, в эпоху «застоя». Через приоткрывшийся «железный занавес» в СССР начали проникать западные фильмы, журналы мод, музыка. Вместе с ними пришел и новый, западный стандарт красоты, ориентированный на стройность. Понятие «фигура», «диета», «90-60-90» постепенно входило в лексикон советских женщин. Идеал начал смещаться от здоровой полноты к подтянутой стройности. Этот процесс, начавшийся в крупных городах, постепенно охватил всю страну и окончательно утвердился уже в постсоветскую эпоху, когда Россия стала частью глобального культурного пространства.
Тем не менее, многовековой идеал «крови с молоком» не исчез бесследно. Он ушел в подсознание, оставшись в фольклоре, классической литературе и генетической памяти. И сегодня, несмотря на доминирование глобальных стандартов, представление о том, что красивая женщина должна быть не только стройной, но и здоровой, со здоровым румянцем и блеском в глазах, по-прежнему находит живой отклик в русской культуре. Это далекое эхо тех времен, когда красота была неотделима от жизни, а жизнь — от способности выстоять и продолжить свой род.